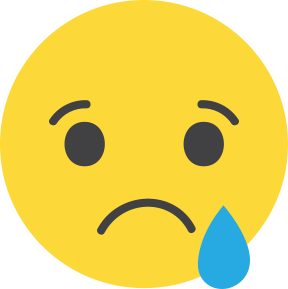— Свое недавнее увольнение с «Радио Рокс» вы объяснили диссонансом в связи с тем, что в наши времена приходится вести развлекательные передачи. А раньше такого диссонанса не возникало?
— Он всегда возникал. Когда все эти вещи начались, я был в отпуске и не мог вернуться из России. Ночью 9 августа мы с друзьями фактически и выступали теми координаторами — сидели на Покровке и сообщали своим, где что происходит, куда идти, а куда не идти. В итоге мы каким-то образом все же пересекли границу, а тут выяснилось, что радиостанция не работает, и не работала она до сентября. Когда все утихло, было нормально, а потом опять началась вся эта дурка. Я вышел с суток — а тюрьма накладывает свой отпечаток — и по-другому посмотрел на то, что делал в эфире. Когда ты сидишь, тебе время от времени включают радио — в тюрьме я слушал то, что на свободе ставил в эфир. Все чаще я стал задавать коллегам соответствующие вопросы, а потом заболел. Я понимал, что с больничного на работу не вернусь — так оно и получилось. Честно говоря, я не очень из-за этого страдаю. Страдаю разве что из-за того, что лишился возможности работать в прямом эфире, ведь это своего рода наркота.
Для меня это был естественный шаг: теперь я не переживаю, что развлекаю людей, в то время как сидят Андрей Такинданг, Илья Черепко, Влад Ленкевич, Ольга Хиженкова, Катерина Борисевич, когда избивают Алеся Денисова из «Дзецюкоў», когда к моему дому подъезжает колонна бусов и силовики хватают соседей.
— Есть мнение, что развлекательная составляющая сегодня наоборот необходима, так как с ней мы можем отключиться от действительности.
— Безусловно, но никого не интересует, что чувствует сам артист, — слушатель или зритель хочет получить свою дозу развлечения, поэтому должен заткнуть в сраку свои проблемы и идти работать. Причиной неявки на спектакль может быть только смерть и то не в любом случае — так нас учили. Кто-то так может, а я не могу, в этом смысле я немножечко сломался. Да, мы знаем о премьере 7-й симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде или о том, что во время Второй мировой у нас игрались спектакли, а потом советская власть за это карала, но есть вещи, которые переступить нельзя.
— Вы говорили, сегодняшние времена дают вдохновение.
— Это реакция на происходящее, которая воплощается в художественных произведениях, — посмотрите, сколько появилось стихов, песен, картин, дизайнерских вещей, идей. Это страшное время требует того, чтобы страдания шли в творчество. Что-то из этого исчезнет, как всегда бывает, но что-то войдет в историю. Причем последние события повлияли не только на нашу культуру, но и на соседей. О Беларуси сейчас знают все, но, к сожалению, не тот у нас пиар-менеджер.
— Ваша песня памяти Романа Бондаренко появилась уже на следующий день после его смерти.
— Я написал ее, сразу дома наиграл и выложил в фейсбук, потому что держать это в себе было невозможно. Я не могу рассказать, как пишутся песни — она просто появилась. Уже через 3—4 часа мне написали с предложениями поучаствовать, мы созвонились с ребятами, закрылись на ночь в студии и записали песню. И так получилось, что на девятый день после смерти Романа, в день похорон, мы ее отдали. Но как в случае с «Крывавым святам», я не могу считать ее своей, это нечто большее.
— Вы помните тот день? Что вы почувствовали, когда вечером стало известно, что Роман умер?
— Когда он умер, просто всё — почувствовал, что назад путей нет, потому что каждого из нас могут так убить, мы все в группе риска, поэтому не делать ничего уже нельзя и это дело каждого. За убийство человека, причем убийство в своем дворе, никто не несет ответственности — это даже вообразить тяжело.
— Когда вас задерживали после концерта, это было целенаправленно?
— Не знаю, нас, может, задержали случайно. Они приехали на шести или семи машинах и стали гоняться за людьми по парку, а народу было действительно много. Нас с Лесли (Владислав Новожилов. — «НН») задержали уже на выходе. Вижу, бегут на нас — и в штатском, и в черном, и в зеленом, и без знаков, и со знаками, кто-то еще в погонах.
У Лесли на рюкзаке был повязан флаг. «О, этого с флагом бери. И патлатого с гитарой!» Ничего не меняется, всё, как в 1996-м — «патлатого бери».
А потом музыкантов стали хватать действительно целенаправленно. Хватали артистов и дирижеров Летучего хора, хватали ребят в филармонии — это 1937 год, когда с репетиции человека вызывают в отдел кадров, а в отделе кадров арестовывают, выводят через служебный выход и везут в РУВД. Если целенаправленно хватают музыкантов, значит, музыка — это оружие, и его боятся.
— К музыкантам со стороны власти, кажется, всегда было потребительское отношение.
— Есть старая поговорка: Як прыйшла бяда, дык бяжы да жыда, а як па бядзе, дык ідзі нах**, жыдзе». «Отношение к музыкантам в этой стране всегда было такое: «Ой, зайдите, поиграйте у нас, пожалуйста». А когда доходит до денег, то: «Ну что ты там сыграл! Я и сам так могу».
Поэтому у нас нет шоу-бизнеса, поэтому мы получаем мизерные гонорары, причем это касается всех артистов. Думаете, от хорошей жизни Александр Антонович Солодуха соглашается петь две песни за 200-300 долларов? Им приходится молотить и молотить, чтобы выживать.
Это мы до определенного момента можем выходить на сцену в джинсах, а там же костюмы, балет и средств на это не у всех хватает. Думаете, артисты выступают под фонограмму, потому что их жаба душит? Леша Хлестов, суперпрофессиональный артист, как-то сказал, что завидует нам, потому что не может позволить себе живой состав. Тем не менее кто-то идет выступать во дворец так называемой независимости, а кто-то играет перед системой «Рубеж» либо на проходной завода «Атлант» в поддержку бастующих. И власть мстит тем, кто от нее отказывается, причем жестоко. Знаю, что один высокопоставленный чиновник так и сказал: «Мы будем мстить тем, кто уволился».
— Вспомнился сайт со сбором «Иуд» — тех, кто ушел из государственных институций.
— Это какие-то потуги ответить на то, что действительно актуальными становятся данные о силовиках, о тех, кто скрывается за масками. Их это, безусловно, пугает. Когда нас забрали и завезли в Заводское РУВД, как раз была история: нас повели на второй этаж, а коридор закрыт, поднимается какой-то майор с ключами и так немного натянуто гыгыкает: «Ну че, бл*, видали, майданутые чё утворили, гыгы» — «А че такое? — «А они меня в базу внесли, бл***, и откуда, бл***, узнали мой телефон и телефон жены, с***». А я вижу, он кирпича навалил, вай-вай. Данные человека, выступавшего на нашем суде в качестве свидетеля, Лесли нашел сразу после выхода из изолятора. Милиционер оказался небольшого ума человеком — он присоединился к районному телеграмм-чату и пытался там что-то пропагандировать. Люди не думают, причем когда начинаешь с ними разговаривать, видишь по глазам, что начинается процесс думания, то есть там есть, чем думать. А потом думать становится страшно и больно, поэтому они говорят: «Так, всё, хватит, заполняем бумажку — и пошел дальше по коридору».
— Каковы ваши наблюдения за силовиками во время суток?
— Совершенно разные. В тюрьме есть те, кто всё делает идейно, а есть те, кто работает, потому что работает. Место, его энергетика тоже изменяет человека. На Окрестина — мы обменивались мнениями — снились очень интересные сны, а в Жодино уже нет. С одной парой охранников в Жодино можно было договориться, потребовать что-то, они понимали юмор и сами о чем-то спрашивали. А были люди типа «закрыли пасти, бл***, уничтожу нахрен», которые испытывали удовольствие оттого, что могут издеваться над другими. Через железную дверь ты шутишь: «Ага, конечно, кроме палки и х** ничего в жизни не держал, может в рот себе ее засунешь» — «Козлы, бл***, выведу вас всех на коридор». — «Да выводи, хоть воздухом подышим». — «Придурки, бл***».
— Это реальный разговор?
— Там такие разговоры были. «Я счас вас поставлю, будете стоять у меня и держать матрасы на вытянутых руках» — «Ой, хлопцы, у нас воспитатель из пионерского лагеря оказался, ты из какого отряда сбежал?» — «Придурки, бл***». Нас не понимали, когда мы требовали тряпку и швабру, мол, дураки какие-то. Когда я выходил и забирал вещи, говорю офицеру: «Может, у вас книга жалоб и предложений есть?» — «А чё такое?» — «Благодарность бы вам написал». Там человек немного юмор понимал и сказал: «В устной форме будет достаточно». Лесли вообще остро себя вел, его уже менты называли Федоровичем и говорили: «Федорович, ну вот это вот ты зря счас сказал, вот это было обидно». Или мы сидим, о культуре разговариваем, а милиционер заводится: «Что вы, бл***, все такие умные? У вас, может, еще и высшее образование есть?» — «Есть». — «И у тебя есть?» — «Есть». — «А у тебя?» — «Есть». — «*б вашу мать», — и печаль на лице. Кто-то просто не думает: отработал смену, пришел домой, повесил форму, поел борща, форма есть, пайка есть, кредит выплачивается, машина катится.
— У вас было довольно оптимистичное настроение после освобождения, но сегодня вы сказали, что сутки накладывают определенный отпечаток. Что это за отпечаток?
— Ты в чем-то переосмысливаешь жизнь и людей. Я мог иронизировать, что наконец отосплюсь и намолчусь — нифига, там постоянно о чем-то разговариваешь. Такая интеллектуальная практика — это супер, но с другой стороны устаешь от света круглыми сутками, а осознание того, что ты находишься в четырех стенах, может стать серьезной психологической травмой.
Люди могут хорохориться, но обратно не хочется совсем, абсолютно не хочется. В общем вся ситуация от начала предвыборной кампании не способствует здоровью и хорошему настроению, можно реально с ума сойти, если не находить во всем этом какой-то юмор. Знаю людей, которые после отсидки адресно идут к психологу. Нужно иметь определенную силу, и наши люди имеют силу.
— А какие вещи переосмысливаются?
— То, что тебе на самом деле нужно, что заслуживает внимания, а что нет. Ты понимаешь, что такое друзья, и что чего-то для кого-то не сделал, хотя имел возможность. Уже иначе строишь отношения с людьми, общаешься с незнакомыми на улице. Осознаешь ценность разговора, вес слова, ценность обычной бумажной книги, важность поддержки, ценность свежего воздуха, даже если тебя вывели погулять в каменную тюремную банку без крыши и ты слышишь, что где-то идет поезд, лают собаки, чувствуешь запах железнодорожного мазута. Понимаешь важность того, чтобы поддержать соседей и загнать через баландёра передачку из камеры в камеру и получить в ответ благодарный стук.
— Вы говорите, что песня — это оружие. Остались ли воины света на стороне власти?
— То, что мы видим, с музыкальной точки зрения — это никак.
Я говорил, сколько произведений появилось со стороны протестного движения, а произошло ли нечто подобное с другой стороны? Я не видел, хотя, может, и хотел бы.
— А помните песню «Любимую не отдают»?
— Фу, боже мой, каждый, кто это слышит, понимает, что это фальшиво. Тем более привлечены российские исполнители — что это за цирк? Значит, своим они не доверяют? Я хотел зайти к бывшему так называемому министру культуры Бондарю с вопросом, почему бы не заняться званиями для наших рокеров, пока они живы. Знаю, многие даже не приняли бы никакого звания, но государство должно было бы показать уважение тем, кто создал эту культуру. Белорусский рок начался с групп «Бонда» и «Мроя», почему бы не отметить Хоменко или Кирчука — людей, занимающихся народной культурой, поэтов Анемподистова и Строцева?
— Вам как-то в жизни помогло, что вы легенда белорусского рока?
— Я даже не задавался таким вопросом. Бывает, я делаю заказ, а мне: «За счет заведения». Квартиру мне никто не подарил и машину тоже. Достаточно того, что после определенных событий больше людей здоровается на улице и такая история сейчас со всеми, кто играет, выступает и высказывается. Вдруг все узнали, что есть белорусские музыканты, а не только «Тры чарапахі» или что-то «ваярскае».
— Из-за последних событий наше общество стало более поляризованным, а раньше черта была не такой жирной. Что вам позволило тогда пойти работать на «Спутник» и пошли бы вы туда в сегодняшних условиях?
— На «Спутник» я пошел, находясь в безысходной ситуации, — это было единственное место, где мне предложили что-то по моему профилю. Когда я приехал на собеседование, увидел знакомых, и это стало решающим. Интересной была информационная волна о моем трудоустройстве, главное в таких случаях не отвечать, что самое трудное. Это был шикарный, хотя и непростой, опыт. На «Спутнике» работала сильная профессиональная команда и только один ватник. Дерьма не делал никто, тотальной пропаганды тоже, я сразу сказал, чего делать не буду. В итоге ни за одну программу на «Спутнике» мне не стыдно. Сейчас, конечно, ситуация другая — надо понимать, что это так или иначе зарубежный источник информации. Я неоднократно и в разных странах — в Израиле или Польше — видел, как общество делится 50 на 50, до драк и развала семей.
Наша власть всегда пыталась разделить нас на честных и нечестных, а мы иногда заглатывали эту наживку. Теперь же она сама одела народ в бело-красно-белый — кровью помазала. Она испуганно пытается провести барьер снова — через помёт из уст Азверёнка-младшего и других телеканалов, но теперь уже мы сплочены и можем сами решить свои проблемы, нам не нужно, чтобы над нами стоял какой-то дядька с плеткой.
— Во время предвыборной кампании вы собирали подписи за Алеся Таболича. Я понимаю, это была скорее авантюра, но вы верили тогда в перемены?
— Нет, все начинается с малого. Разумеется, черт знает что должно было случиться, чтобы Таболич попал хотя бы в первый тур, но было супер в этом поучаствовать. Мы проехали всю страну, я посмотрел на людей, пообщался с ними, увидел эти очереди и вот тогда появилось осмысление того, что все начинает меняться. Я только раскладываю столик, поднимаю глаза, а уже стоит человек сто — всё, понеслось.
— За эти месяцы что вас больше всего потрясло?
— Люди. Мы увидели друг друга и поняли, что такое быть народом, что значит людьми зваться. Правда, не все: кто-то отработал сутки, снял форму, поел, все нормально. Сейчас весь народ в зоне риска — 23.34 и так далее, но целый народ за решетку не загонишь, поэтому это просто смешно.