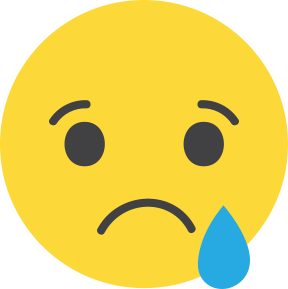Сергей Марчик на протестах в Беларуси.
Белорус Сергей Марчик объездил ряд военных конфликтов и революций последнего времени: Сирия, Ирак, Украина, Венесуэла, Турецкий Курдистан, Армения, Молдова и, конечно, Беларусь. Из горячих точек он привозит документальные фильмы.
Сергей родился в Барановичах. В 2006 году за участие в протестах попал на Окрестина, где пробыл 15 суток. Уехал в Польшу по программе Калиновского. Окончил Варшавский университет по специальности «международное право». Позже учился в Варшавской киношколе. Работал на «Еврорадио», «Белсате». Затем открыл собственную фирму по производству кино- и видеопродукции «Marchello Production», в рамках которой и продолжает заниматься военной журналистикой.
— Как ты начал снимать события в горячих точках? Какая из них была самая первая?
— Моей первой революцией был Майдан — его самое начало в 2013-м. Признаюсь, я летел туда без малейшего представления, насколько глобальное событие я должен был снимать —глобальное для Украины, для всего мира и, как позже оказалось, для меня: Майдан изменил мою жизнь до неузнаваемости.
Майдан, Украина. Сергей Марчик.
Я ездил на украинскую революцию несколько раз. Вторая поездка закончилась реанимацией и операцией по вывозу нас с контролируемых силами Януковича территорий.
Мы с коллегой Юрой Высоцким делали материал про Автомайдан в Черкассах. Именно тогда беркутовцы решили дать отпор группе Автомайдана. Начался какой-то экстремальный трэш: разбитые окна, коктейли Молотова, Беркут расстреливал и избивал автомайдановцев, автомайдановцы отбивались. А я бегал с камерой как начинающий репортер, еще и лампу включил на камере — ну как же: надо света побольше. Один парень из Автомайдана запрыгнул в автомобиль, нажал на газ и со всей мощи врезался в колонну Беркута. Кто-то подлетел, упал, лежал в конвульсиях. Я подбежал и начал снимать.
А потом почувствовал один удар, другой. И понял, что кто-то схватил меня за бронежилет, стал душить. Я потерял сознание.
А когда пришел в сознание, медики уже доставали меня из машины. Моя голова превратилась в кусок кровавого мяса. Так я попал на операционный стол. Как раз когда меня зашивали, позвонила директор «Белсата» Агнешка Ромашевска. Я сказал, что мы доделаем фильм, она посмеялась и ответила: «Просто выбирайтесь». И организовала помощь, чтобы нас оттуда вывезти.
— Начало впечатляет. Эта ситуация не оттолкнула тебя от поездок в горячие точки?
— Наоборот. Я вернулся после Майдана в Польшу, опоздал на сессию, позвонил своему преподавателю в Краковскую киношколу, все объяснил. Он сказал: «Вылечишься — приезжай, что-нибудь придумаем». А я говорю: «Нет, я уже не приеду». Немного подлечился, и началась аннексия Крыма. И мы снова поехали снимать.
— На учебу ты уже не вернулся?
— Да. Потом я поступил в другую киношколу. Которую, кстати, тоже не закончил, потому что улетел на очередную войну.
Все мои киношколы заканчивались войнами — с преподавателями или в реальности. Войны оказывались поинтереснее, чем учеба.
— Почему вообще войны и революции? Что ты в них находишь?
— Я вырос в Беларуси. Был молодым революционером, уже с 2002-го получал пи***лей от милиции. В 2006-м отсидел 15 суток, против меня возбудили уголовное дело, и мне пришлось уехать в Польшу.
И вот представь: из своей страны, где постоянно что-то происходит, я попадаю в удобную и комфортную Польшу. Появляются наркотики, тусовки, все что угодно, но не было той экстремальной жизни, как в Беларуси. Тогда я не совсем понимал, чем я могу заменить эти эмоции. Самой близкой по духу была журналистская работа в зонах конфликтов.
Я и свою юридическую специализацию выбирал с мыслью об этом: международное публичное право и роль Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности.
— Ты лишь недавно получил польское гражданство. Как тебе ездилось с белорусским паспортом?
— Как-то мы с коллегой Конрадом (ныне партнером по бизнесу) решили попробовать вместе сделать военный фильм. И решили поехать в Сирию. Но на деле добрались только до турецко-иракской границы, она же — въезд в Иракский Курдистан. И там мне сказали: «Мальчик, ты откуда вообще, что это за паспорт?» Я говорю: «Это Беларусь». «Возвращайся, — говорят, — мальчик». И нас не впустили в Ирак.
Сирийско-иракская граница. Сергей Марчик, Конрад Загурский и Витольд Репетович пересекают границу.
Тогда мы развернулись, поехали в Турцию и в конце концов попали в деревню Мазидаги на востоке недалеко от Диярбакыра — столицы Турецкого Курдистана — и стали снимать турецко-курдскую войну. Понятно, что два иностранца с камерами в горной деревне привлекли внимание. Со временем нас узнавала вся деревня.
В те времена несколько иностранных журналистов сидело в тюрьмах в Турции по обвинению в помощи курдским террористам. Поэтому мы понимали, что если нас поймают, то нам конец. У нас были обыски, по нам стреляли, мы прятались с друзьями-курдами по подворотням от облав. И однажды нас похитили турецкие военные буквально с улицы. К счастью, мы сумели выпутаться из ситуации, закосили под придурков-туристов, спрятали видеоматериалы. И нас отпустили.
После этого мы с Конрадом перебрались в Диярбакыр. Это курдский город, где большинство населения — курды. Но местная полиция, чиновники и военные — турки. В самом центре Диярбакыра есть район Сур, в котором идет регулярная война. А весь город вокруг живет своей жизнью. Поскольку бюджет у нас был ограничен, мы решили заселиться в самый дешевый отель.
Отель оказался буквально в зоне военных действий. Всю ночь там были слышны взрывы. Заезжают танки, выезжают танки, заезжает скорая помощь, выезжает скорая помощь, постоянные выстрелы. А утром ты просыпаешься, делаешь себе кофе, открываешь окно и видишь, как войска меняют позиции.
Время от времени, примерно раз в месяц, чтобы поддержать своих товарищей в Суре, курды всего Диярбакыра объявляли всеобщую забастовку: город полностью закрывался, и начинались беспорядки. Причем такие жесткие, что после каждого такого дня было по 10—20 погибших.
Сирия. Первая ночь турецких бомбардировок. Курды организуются в локальные отряды самообороны.
Сирия, город Хасака. Одна из первых жертв атаки турецких войск на курдскую Рожаву.
Сирия. Похороны погибших курдских солдат.
Сирия. Госпиталь в Таль-Тамре. Мальчик попал под обстрел, его тело обгорело более чем на 40%.
— Ты называешь курдов своими друзьями. Но по стандартам журналист должен придерживаться нейтралитета, а ты явно выбрал одну из сторон. Не получается быть нейтральным или даже не пытаешься?
— Не получается быть нейтральным. Задача документалиста-рассказать эмоциональную историю через эмоции и человеческую трагедию. В длинных формах, которыми я занимаюсь, сложно оставаться незаангажированным, потому что ты узнаешь героя, проводишь с ним несколько месяцев, в том числе в тяжелых условиях. Мы всегда стараемся как можно глубже влиться в местную жизнь, поэтому ходим по местным клубам, барам, злачным местам, чтобы понять страну.
Когда ты работаешь в условиях сильной поляризации, вообще очень сложно говорить о журналистском нейтралитете. Как можно рассказать две правды, если другая сторона тебя игнорирует? В той же Беларуси очень сложно рассказать о жизни омоновца, потому что он тебя к себе просто не подпустит.
В этом смысле украинский конфликт был уникальным, так как у меня был белорусский паспорт и польский вид на жительство. Я мог приехать в батальон к Мотороле, протусоваться с ним, говоря, что мы белорусские журналисты из гостелеканала, а потом выехать оттуда, поехать на украинскую территорию и снимать ту версию событий, которая нам ближе.
Поэтому мы выдумывали легенды: «Да, мы с белорусского телевидения, свои ребята». Сепаратисты спрашивали, как там «Батька». А мы им: «Ах**нна, свой чувак. У нас хорошо, хорошие дороги, не так, как у вас». Надо же было к ним войти в доверие.
Правда, иногда это была игра на грани фола: разговариваешь, например, с Моторолой, сказки ему рассказываешь и понимаешь, что, если его люди проверят информацию и откроется правда, он может нам и яйца отрезать.
Северодонецк. Александра, женщина-снайпер.
Северодонецк. Позиция украинских войск.
— В таких конфликтах всегда очевидно, где добро, где зло?
— Мне кажется, всюду. Я для себя очень четко и быстро определяю, у кого какие цели, кто за что борется.
— Есть ли что-то общее в конфликтах и революциях, на которых ты был?
— Параллели провести можно, но конфликты все разные. Есть, например, Венесуэла. Там давно прошел этап, когда были неопределившиеся. Люди точно знают, что Мадуро должен уйти в отставку. При этом конфликт длится еще со времен Чавеса. Думали, Чавес уйдет — и все изменится. Потом пришел Мадуро, против него вот уже третий единый оппозиционный лидер… И снова говорят, что вот-вот всё произойдет. Но во власти сидят товарищи, которые не хотят отдавать страну. И ничего не меняется. Мадуро уже давно утратил бы власть, но есть Китай, Россия, Турция, огромное число сочувствующих, которые с учетом важного географического положения Венесуэлы помогают там и сям.
А потом мы летим в Армению. Революция только-только началась, а мы уже узнаем, что Саргсян ушел в отставку. И я думаю: как это вообще возможно?
Армения.
Поэтому революции могут происходить по-разному, где-то это быстрая передача власти без больших потерь, как в Армении. А может быть как в Венесуэле, которая погружается в кризис все глубже и глубже.
Пример Венесуэлы меня очень сильно смущает. Значит, схема, в которой если люди хотят, то у них обязательно получится, не всегда работает. Мне кажется, Беларусь может попасть в подобную ловушку. Мы находимся в сложной геополитической ситуации, и для кого-то это может быть тем основным фактором, почему он будет поддерживать существующий режим.
Венесуэла.
Венесуэла.
Венесуэла.
— Как ты себе представлял возможную белорусскую революцию раньше, и отличается ли она от того, что начало происходить в прошлом году?
— Примерно так ее и представлял. Она очень наивная, безобидная. Не надо ездить по Украинам, Венесуэлам, чтобы понять, что она очень мирная. Я насмотрелся разных революций, но не вижу для Беларуси иного варианта.
При этом понятно, что если схема не сработала в первые месяцы, то и дальше она, скорее всего, не сработает. Санкции? Я понимаю, что Тихановская делает огромную работу, но есть пример той же Венесуэлы. Она просто на грани бездны: чтобы получить 2,5 доллара в банкомате (это максимум, который можно снять в сутки), ты стоишь в очереди день. А потом эти 2,5 бакса в местной валюте у тебя вмещаются в четыре сумки. Ну куда уж дальше? Но нет, режим живет.
И если режим Лукашенко не реагирует на котиков и шарики, с чего мы взяли, что санкции могут что-то изменить? Сколько себя помню, нас постоянно откуда-то исключали, чего-то нам не давали, но это ничего не меняло. Пропасть, в которую страна может падать, практически не имеет дна. А сколько наши люди готовы выдержать!
Минск, протесты.
— Но неужели долговременное расшатывание режима ни к чему не может привести? Когда-нибудь же должны закончиться деньги на зарплату ОМОНа.
— Почему у режима должны закончиться деньги? Например, потому что мы перестанем продавать молочную продукцию в Россию. Но мы не перестанем. Или потому что мы перестанем продавать бензин на Запад. Но мы не перестанем. Или потому что Россия перестанет давать Лукашенко кредиты. Но не перестанет. Все наши скрытые олигархи в состоянии сами скинуться на ОМОН. Сейчас у олигархов есть гарантии, что с ними ничего не случится, у них монополия на бизнесы. Сегодня для них намного более выгодная ситуация, чем свободный рынок.
— Что тебя поразило или удивило в белорусских протестах?
— После всех моих протестов мне всегда казалось, что в Беларуси невозможно то, что сейчас здесь происходит. Казалось, у нас настолько не сплоченный народ, и во всех наших протестах нет жизни. Была оппозиция, к которой я себя тоже причислял. Но всегда чувствовалось, что эти протесты обречены на поражение.
Однако в прошлом году, когда я приехал на протесты в Беларусь, 9—10 августа, первый раз у меня появилось ощущение, что я это уже где-то видел: и в Венесуэле, и в Турции, и в Армении, и в других странах. Правда, там это было в больших масштабах, ярче, жестче, агрессивнее, радостнее. Но ведь это Беларусь! Да, я видел, как в Украине бросали коктейли Молотова, но в Беларуси бросали пустую пластиковую бутылку — и это уже ах**нна для белорусов.
Минские протесты.
Минские протесты.
Да, я видел, как может быть иначе, но этот дух сотен тысяч людей, вышедших на улицы, поразил. Это огромная масса!
Меня поразило, насколько сплоченными могут быть анархисты. Меня порадовало, что было огромное число работяг. Это то, чего я раньше практически не видел в Беларуси. Возможно, если бы было больше оппозиционных лидеров, которые в такие моменты берут на себя координацию, было бы иначе.
— Они сидели в тюрьме.
— Мы сейчас говорим не только о тех, кто в тюрьме.
Мы готовились к этому 26 лет, уже выросло целое поколение оппозиционных активистов, которые могли бы координировать протест. Но мне кажется, они тоже побоялись. Столько лет им это не удавалось, вот не поверили в себя и сейчас.
Когда на улице более 150 тысяч человек, можно хлопнуть в ладоши — и власть уйдет. Но чтобы так произошло, должны быть еще 150 человек, которые направят толпу. Мы были близки.
И не надо рассказывать, что мы сейчас по-прежнему близки. Такой момент случается раз в много-много лет. К нему нужно готовиться, солнце должно быть в зените, должны правильно расположиться звезды. Было абсолютно всё.
Минские протесты.
А теперь власть научилась бороться с протестами. Она научила и мотивировала силовиков быть жестокими. Думаю, она уже просчитала возможные варианты развития событий на случай,если будет бунт военных, если не хватит омоновцев, если не хватит обычной милиции. Снова собрать такой же масштабный протест, когда мы знаем, что творили с девушками в автозаках, что делали с мужчинами, чем заканчиваются протесты для тех, кто рисовал на щитах омоновцев, будет уже сложнее.
— Но ведь ты не будешь спорить, что ситуация изменилась?
— Да, мы себя назвали, мы себя показали, мы посчитались. И это невероятно важно — в такой момент знать, что нас большинство. Но на то, как нас много, отреагировали не только мы, но и система.
— Как тебе самому работалось в Беларуси, учитывая, что это твоя родина?
— Мне кажется, в Беларуси я абсолютно отключился как журналист и документалист. Я как-то сильно сжился с этим протестом. Время от времени мог себя вести чуть более заангажированно, чем обычно. Были моменты, когда мне хотелось выключить камеру и помочь, например, раненым. Обычно со мной такого не случается.
— Какие у тебя отношения со страхом?
— Я очень сильно боюсь. Я могу пережить самые сложные ситуации, я привык к стрессу, но при любом выстреле не могу удержать камеру, она очень сильно трясется. Даже если я понимаю, что это петарда, после всех выстрелов и взрывов, которые пережило мое тело, оно не в состоянии смириться с тем, что эти звуки могут быть безобидными.
Помню, вернувшись со съемок, я сидел на занятиях в киношколе. Пошел приятный дождик и вдруг — гром. И я просто упал под парту. Какое-то время требуется на акклиматизацию: я не переношу резких звуков.
В конце командировок я всегда думаю: скорее бы вернуться в теплую постель, чистую квартиру, к приятной музыке и хорошему вину. Но потом опять хочется подпитать свои страхи. Дискомфорт и стресс начинают снова звать. Насколько ужасна война, настолько же ужасно и жить далеко от этих эмоций.
В мирной жизни у меня много текущих забот. Я живу в мире бумаг, бюджетов, выставления фактур, оплачивания счетов… А потом попадаю на войну, где у меня одна задача — выжить. Ну, и снять фильм, если получится. Еще нужно найти поесть: я вегетарианец. Вот уровень моих проблем. Но та свобода, которую я получаю, отдых для головы — ни с чем не сравнимы. Даже ночлег не волнует. В местах военных конфликтов всегда есть где поспать: крутой отель или брошенный дом.
— Где граница, после которой ты говоришь: нет, дальше я не пойду, там слишком опасно?
— У нас была ситуация, когда мы попали под ужасный обстрел в Сирии на границе с Турцией. Мы были на позиции во время легкого обстрела. Нам казалось, что ситуация настолько безопасна, что можно постоять, покурить, слить материал и пойти снова снимать. Но в определенный момент началась страшная бомбежка, и подъехали три боевые машины противника. По счастливому стечению обстоятельств мы оказались возле нашего автомобиля раньше водителя. У нас было ровно столько времени на эвакуацию вместе со всей аппаратурой, сколько у него, чтобы добежать до руля и надавить на газ. Я не совсем понимаю, как в нашем микробусе оказалось столько людей. Кто-то запрыгивал на ходу, малайзийский журналист с окровавленным лицом висел на открытой двери, болтаясь во все стороны, из машины выпадали какие-то сумки. При всём этом, никто даже не думал, все ли в машине. А наш режиссер Витек Репетович остался на позиции.
Через километров пять я крикнул: «Где наш режиссер? Нам нужно вернуться за Витеком!» Рядом сидел такой здоровый курдский солдат с калашниковым в руках. Он повернулся ко мне и сказал: «It does not make sense. Everyone is dead» («Нет смысла. Все погибли»). Мы смотрим назад, а там грибы от взрывов. Потом оказалось, что американские пехотинцы из организации Free Burma Rangers, которые были на позиции, вывезли нашего режиссера и с ним все было в порядке.
Страшно? П***ец как страшно. Но обычно в такие моменты нет времени на размышления. Срабатывают животные инстинкты, и ты всегда знаешь, как себя обезопасить. Однако самые страшные моменты — это не когда по тебе стреляют. Гораздо страшнее перманентный страх. Например, в Венесуэле с каждой очередной ужасной историей, как кого-то похитили, кого-то ограбили, кого-то задержала полиция, ты начинаешь понимать, куда ты попал и что может случиться. К тому же к тебе постоянно кто-то подходит и говорит: «Cпрячь фотоаппарат, у тебя его украдут», «Не иди туда, тебя подстрелят», «Спрячь телефон в трусы, тебя ограбят». И ты подсаживаешься на паранойю, на страх, который постоянно в тебе живет. И непонятно, что с ним делать.
— Как твое психологическое состояние после всего, что ты видел и пережил?
Армения, начало революции.
— Сначала я возвращался к повседневности и не понимал, что с этим делать. Я не понимал тех, казалось, мелких проблем, которыми живут люди вокруг. Становился черствым, часто агрессивным. Искал свои рецепты, Как вернуть радость повседневной жизни. Конечно, пытался делать это через алкоголь, наркотики, бордели. Начинал жить одним моментом, не задумываясь о возможных последствиях отдельных решений.
Для меня очень жестким было открытие понятия «посттравматическое расстройство». В первую очередь это почувствовали мои самые близкие люди. С одними я прекратил общение, потому что не осталось общих тем для разговоров, с другими рассорился. Я не хочу сейчас сваливать все проблемы с характером на войну, но я четко понимаю зависимость, что и когда стало происходить. Со своей девушкой Олей, фантастическим человеком, с которой мы встречались, когда я стал ездить на войну, мы разошлись довольно быстро — я натворил ужасных вещей.
Ушло несколько лет на то, чтобы я восстановил внутреннее равновесие. Вместе с этим пришло печальное понимание: реализация каждой мечты имеет свою цену. И за возможность прикоснуться к главным событиям мира я заплатил утратой дорогих мне людей.
Сейчас я уже понимаю, что со мной происходит, когда возвращаюсь. Я научился справляться с негативной энергией и эмоциями, но ужасно жаль, что я не знал этого раньше.
У меня был очень близкий друг Саша. Мы познакомились в 2006-м, когда попали в одну камеру на Окрестина. И потом вместе выехали в Польшу. Мы много лет были как братья, даже купили себе соседние квартиры. Казалось, что это никогда не изменится. Но мои военные приключения, которые наложились на психологическую неустойчивость, привели к тому, что я наделал глупостей, мы поссорились, и наши пути сильно разошлись.
Много лет мы не разговаривали. И вот в августе 2020-го, в первый день протестов в Беларуси, я заметил оператора с большой камерой, который постоянно попадался мне в кадр. В какой-то момент он обернулся, и оказалось, что это Саша. Мы подошли друг к другу, перекинулись парой слов, пожали руки, обнялись и разбежались. Цикл замкнулся: мы познакомились благодаря белорусским протестам, поссорились в некотором смысле из-за протестов и войны в моей голове и снова смогли обняться благодаря минским событиям в августе 2020-го.
Тот момент и в целом белорусский протест стал для меня очищающим.